Перепечатка, автор: Эдуард Тополь
Когда меня попросили выступить на вечере памяти Александра Аркадьевича Галича, я согласился не без колебаний. Хотя знал его много лет, мы месяцами жили бок о бок в домах творчества кинематографистов «Болшево» и «Репино», играли на бильярде, пили коньяк, слушали «Немецкую волну» и «Голос Америки». Знать бы тогда, что через несколько лет судьба вынесет меня на вечер памяти Галича, записал бы, запомнил, отложил в памяти десятки деталей, диалогов, реплик…
А теперь я старательно распутываю только те узелки памяти, которые завязались сами собой, теперь я стараюсь сквозь годы рассмотреть подробности тех встреч.
Был 67-й год. Москва. Я был начинающим сценаристом с одним или двумя неудачными фильмами, но настырно продирался в кинематограф. Под мышкой у меня был сценарий «Ошибки юности», который через десять лет стал запрещенным и арестованным фильмом. Но тогда до фильма было далеко, да и сценарий был рыхловат, хотя и дерзок: одиссея деревенского парня, который не может найти себя в ударных буднях СССР. Но был, повторяю, 67-й год, последний год «оттепели», самое модное («Роммовское») объединение «Мосфильма» заинтересовалось этим сценарием, заключило со мной договор и даже послало меня на десятидневный семинар молодых драматургов в подмосковный дом творчества «Болшево». Там нас, молодых сценаристов, разбили на группы по пять человек и каждой группе назначили опытного драматурга-руководителя. Я попал в группу Галича.
Была короткая, как бы мартовская оттепель в общественной жизни, но мы-то думали, что это уже «май на носу», и все — учителя и семинаристы — верили в наступление каких-то иных, свободных веяний в советской жизни. И вот я помню Галича тех дней.
Высокий, широкоплечий, подтянутый, с развернутой грудью, с пышной шевелюрой, взлохмаченной над еще неглубокой залысиной, а главное — с каким-то внутренним ощущением вседозволенности в творчестве. Уж не помню, что конкретно говорил он мне по отдельным эпизодам моего сценария, помню, что детали, ремесленные подробности построения сцен или фабулы его не интересовали, он даже как-то брезгливо-пренебрежительно говорил о тонкостях ремесла и профессии сценариста, но зато призывал нас писать свободней, раскованней, сплеча и без оглядки.
Он тогда только-только входил в свою песенную стихию и славу, еще и сам не очень верил, мне кажется, что это у него всерьез и надолго, но было и ощущение, что он уже чувствует внутри себя какую-то волю, словно открыли вдруг окна темного хлева, и человек, сидевший в темноте, щурится на солнечный свет и угадывает за порогом вольные поля, запахи свежих трав и бездонность глубокого неба, по которому «облака плывут, облака…» — щурится на все это человек, видит, что можно уже выскочить наружу и бежать куда хочешь, и кувыркаться, и петь, но еще сам себе не верит: а можно ли? Будет нечестно, если скажу, что от наших семинарских занятий я сохранил еще что-то — какие-то примечательные детали, «исторические подробности». Нет. Больше того, помню как раз чувство досады: меня интересовали тогда конкретные рекомендации по моему сценарию, а Галич говорил вообще о жизни, о вольном творчестве и больше звал в лес, на прогулки, на речку Яузу, чем к пишущей машинке.
А время шло. И очень скоро — в 68—69-м годах — оттепель перешла в длительные, устойчивые морозы. Но Галич уже глотнул воли, уже взял свою ноту, и остановить его было нельзя. Песни его пошли по стране, и то, что казалось нам просто «хобби Галича», песенками и гитарным звоном под бутылку хорошего коньяка, с которыми он приходил по вечерам в чью-нибудь комнату в Доме творчества на очередной сабантуй, — именно эти «песенки» стали вдруг общественным явлением союзного масштаба.
Я был далек от подробностей его жизни. Я мотался по газетным командировкам, по заполярным стройкам, и там, где-нибудь возле Диксона, например, или Норильска вдруг слышал то в рабочем, то в лётном общежитии магнитофонные пленки со знакомым голосом. Тем не менее, прямо скажу, меня эти стихи под гитару не задевали тогда глубоко. Ну — мода, ну — некое фрондерство, но тогда не один Галич так начинал — и Ким Рыжов, и Высоцкий, и еще кто-то, уже забытый…
Так прошло года два-три. Заранее прошу снисхождения у историков: у меня нет уверенности в точности дат, только помню еще один семинар молодых драматургов, но уже не в Болшево, а в Репино под Ленинградом.
Снова был апрель. Финский залив отмерзал под солнцем, и мы, человек 40, собравшись, ждали Галича. Я хорошо помню, что теперь мы вправду ждали его приезда уже не только как учителя драматургии, а как некое общественно значимое лицо. Все знали, что он сейчас в Новосибирске, в Академгородке, где проходит полуофициальный Всесоюзный конкурс бардов. Кажется, даже два информационных органа сообщили тогда об этом — газета «Московский комсомолец» и «Голос Америки». Позже кто-то из сибирских кинематографистов рассказал мне, что, пользуясь неразберихой на студии кинохроники, снял весь конкурс на пленку и даже смонтировал сюжет для всесоюзной передачи «Новости дня», но в последний момент сюжет запретили, и пленка теперь валяется неизвестно где. А тогда… Тогда, в те апрельские дни, как лозунг новых темных времен, поползла с того конкурса уж не знаю чья (не Галича) песня, гимн совет¬ского слепого: «А я ни-че-го не вижу. И — видеть не хочу!..»
Шли новые времена закручивания гаек, и это тоже была чья-то общественная позиция — ничего не видеть.
И вот я помню этот апрель в Репино. Я помню столовую, залитую через окна солнцем и пронизанную хвойным настоем окружающих лесов и морозно-льдистым озоном оттаивающего Финского залива. Мы завтракали: семинаристы и учителя — известные советские кинодраматурги.
И вдруг вошел Галич.
У него был какой-то внутренне просветленный вид, словно он нес в себе Нечто.
Новую песню?
Звонкость сибирских морозов?
Хрупкое знание вечности?
Помню, как он стоял несколько секунд в проеме двери — весь еще не прилетевший, наполовину там, еще в Новосибир¬ске. Потом стремительной походкой прошел через зал и сел за наш столик, съел традиционный дом-творческий завтрак и, видя, что мы не знаем еще главного события конкурса бардов, не удержался, достал из «дипломата» свернутый в трубочку диплом, а из пиджачного кармана какую-то плоскую коробочку. И сказал, стеснительно улыбаясь:
— Я вам прочту сейчас, ладно?
И прочел нам диплом Первого (и последнего) Всесоюзного слета бардов. Я не берусь дословно передать весь текст — не запомнил, о чем сожалею крайне. Но ручаюсь за смысл. Там было написано примерно так:
«Дорогой Александр Аркадьевич Галич! Всесоюзный слет бардов и Музей искусств Академгородка приветствуют в Вашем лице крупнейшего поэта наших дней, который одним из первых поднял свой голос во мраке и безличии нашего времени. Ваши песни «Караганда», «Пастернак» и «Похороны Ахматовой» навсегда войдут в золотой фонд русской публицистической и гражданской поэзии. Спасибо Вам, что в эпоху нового гнета Вы сумели в своих песнях подхватить уже почти уроненную традицию некрасовской гражданской поэзии. Единогласно признавая Ваш дар первого современного поэта и барда России, жюри Всесоюзного конкурса бардов и Музей современного искусства сибирского Академгородка преподносят Вам в дар серебряное перо Некрасова».
И тут Галич открыл эту темную плоскую коробочку-футляр, и мы увидели: старинное гусиное перо из темного серебра лежало на сером бархате. Стесняясь, явно чувствуя неловкость от значительности такой исторической эстафеты, Галич рассказал, что в свое время золотым гусиным пером был награжден от литературного, кажется, общества Александр Пушкин, а затем к пятидесятилетию со дня рождения литературная общественность России решила таким же — только серебряным — пером наградить Некрасова, и вот по форме пушкинского пера было отлито некрасовское, серебряное. Музей Академгородка отыскал это перо у дальних родственников Некрасова, приобрел и хранил, а теперь преподнес Галичу за его песни, а конкретно — за «Караганду», «Пастернак» и «Похороны Ахматовой».
Честно говоря, от этого дух захватывало и что-то игольчато-звонкое, вневременное вошло в стеклянно-солнечную столовую Дома творчества. Темно-серебряное, величиной со столовую ложку, гусиное перо самого Некрасова лежало перед нами на банальном обеденном столе, и было что-то неестественное, неисторическое, когда Галич закрыл коробочку и коротким жестом сунул ее во внутренний карман пиджака.
В самый исторический момент биографии люди чаще всего делают банальные жесты, но, помнится, я успел подумать, что вот, пока мы стучим на своих пишмашинках «Москва» и «Колибри», Галич пишет пером Некрасова…
Конечно, мы устроили в этот вечер крепкий сабантуй. И Галич пел «Караганду», «Пастернака», «Похороны Ахматовой».
Я слышал их тогда впервые — не песни, а скорее речитатив, судебный приговор русской поэзии тому времени, в котором мы жили. Справедливость решения жюри конкурса бардов была очевидна. И я думаю, что это был пик творчества Галича, и на этой вершине перо Некрасова слетело ему на плечо, как знак избранности и отличия, как Божий знак.
Блажен поэт, которого современность отметила вдруг такой признательностью, но и трудно, я думаю, ох как трудно простому смертному, любителю жизни, застолья и женского внимания соответствовать этой избранности…
Вся дальнейшая жизнь Галича, которую я видел в Домах творчества, все остальные годы до его отъезда в эмиграцию были, мне кажется, борьбой этой избранности с обыденной жизнью, не защищенной от будничных нужд и хлопот. Водил ли он нас, добровольцев, на могилу Анны Ахматовой (помню, шли мы за ним цепочкой по тропам заснеженного Комарово, и он один знал дорогу и привел нас к простой ее могиле), гуляли ли мы средь белок в Репинских пенатах, пили ли водку в Доме творчества «Болшево», где Галич снова пел под гитару «Облака» и «Караганду», не было выше того момента, когда серебряное некрасовское перо лежало перед нами на столике в Доме творчества «Репино». Он взял тогда самую высокую, самую возвышенную ноту русской поэзии, и это перо повело его дальше — наперекор всему, что было в нем от его же собственного до-галичского конформизма, наперекор соблазнам создания с Марком Донским фильма о Шаляпине, наперекор всему новому конформизму, который растекался вокруг, — это перо повело его выше этих соблазнов и увело в эмиграцию.
Я помню, как не хотел он вновь писать конформистскую киношную жвачку, я помню, как уже с утра сторожил его в Болшево возле коттеджа Марк Донской, чтобы не улизнул Галич в магазин, и я помню, как, будто заарканенный, тащился Галич вслед за Донским из столовой по протоптанной в снегу тропе в коттедж, к пишущей машинке…
Но — стоп! Не всяко лыко в строку… Есть у Эмиля Верхарна в книге о Рем¬брандте мысль о том, что искусствоведы, как мыши, изгрызли даже бухгалтерские книги художника, куда заносил Рембрандт счета своей нищеты. Я не искусствовед и ради светлой памяти Александра Аркадьевича предпочитаю рассказать только о светлых днях его жизни, которым был почти случайный свидетель.
Марк Семенович Донской, объявленный итальянцами отцом итальянского неореализма, чуть ли не силой привозил Галича в Болшево, чтобы вместе с ним писать сценарий фильма о Шаляпине. А Галич от работы отлынивал, он – высокий, статный, прекрасно одетый красавец в распахнутой канадской дубленке и с белым шарфом через плечо — был тогда в самом зените своей бардовской славы, женщины обмирали от одного его взгляда. По вечерам мы, небольшая компания болшевских постояльцев – Юлий Дунский, Валерий Фрид, Андрей Смирнов, Вадим Трунин, Александр Шлепянов, Павел Финн, Анатолий Гребнев, ваш покорный слуга и еще два-три человека – приходили (с напитками) в его комнату, и он с охотой – особенно, когда с нами приходила молодая красавица-поэтесса N. – играл на гитаре и пел свои песни, постоянно дымя сигаретой, отпивая коньяк и не отрывая от N. своего пламенного взгляда.
И при этом голос его звучал набатом:
— Мы поименно вспомним тех, кто поднял руку! – обещал он членам Союза писателей, единодушно проголосовавшим за исключение из Союза Бориса Пастернака.
Но власти с ним, конечно, сквитались и, с молчаливого согласия тех, «кто поднял руку», исключили его из Союза писателей и выслали в эмиграцию. Когда я пришел проводить Галича в его квартиру на улице Черняховского, топтуны были и во дворе, и на лестнице. Двери в квартиру были распахнуты, окна, несмотря на зиму, открыты настежь, сквозняки гуляли по всем комнатам вместе с какими-то бумагами, а на столе стояли початые бутылки водки и лежал черный хлеб, нарезанный ломтями…
Только здесь, чокаясь с Галичем «на посошок», я сказал ему, что двенадцатилетним пацаном играл пионера в спектакле по его пьесе «Вас вызывает Таймыр» в Полтавском драматическом театре. Но вряд ли он меня слышал – у него были отсутствующие и безнадежные глаза…
А потом, уже из Мюнхена, он обещал по радио «Свобода»: «Когда я вернусь — ты не смейся, — когда я вернусь, когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу…»
Он не вернулся. Недавно его дочка Алена попросила меня выступить в ЦДЛ на вечере его памяти. Но даже и там никто поименно не назвал тех, «кто поднял руку» за исключение Пастернака и Галича из Союза писателей и изгнание Галича в эмиграцию…







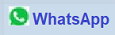




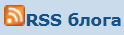


Виктор Некрасов «Александр Галич», Виктор Кондырев «Витя, Галич умер!», фотографии Виктора Кондырева с похорон Александра Галича Эти сайты могут нарушать авторские права, быть признаны неавторитетными источниками или по другим причинам быть запрещены в Википедии. Редакторам следует заменить такие ссылки ссылками на соответствующие правилам сайты или библиографическими ссылками на печатные источники либо удалить их (возможно, вместе с подтверждаемым ими содержимым).
Гостьей программы #ОсторожноСобчак стала звезда ютуба, блогер Ида Галич. Во время интервью она рассказала о своем детстве, проведенном во Владикавказе. Блогер вспомнила сложные 90-е годы, когда местные жители не понаслышке знали, что такое голод.